Е. Шугинина, кандидат медицинских наук, П. ШишкинаМосква, Россия
В последнее время в печати и на профессиональных форумах медицинская общественность, журналисты и пациенты широко обсуждают этические и правовые нормы взаимоотношений врача и пациента. Высказывается мнение о том, что одной из причин конфликта между врачом и пациентом, неудовлетворенным качеством оказанной ему медицинской услуги, является неадекватная оценка пациентом результата лечения. Необъективность оценки пациентом эффективности того или иного вмешательства в ряде случаев является отражением патологических особенностей психического статуса пациента. Поэтому для того, чтобы врач не стал объектом судебного или иного разбирательства по иску такого пациента, ряд авторов считает, что врачу следует воздерживаться от оказания медицинских услуг по эстетической коррекции внешнего облика пациентам данной группы. Однако наш клинический опыт иллюстрирует обратную ситуацию: успешная ринопластика стимулировала пациентку, страдающую патомимией, обратиться за помощью к дерматокосметологу и психотерапевту.


Больная Х., 17 лет, обратилась в косметологическую лечебницу «Институт Красоты» по направлению своего пластического хирурга с жалобами на высыпания на лице, которые появились два года назад. Эти высыпания расценивались как угревая сыпь. Пациентка не лечилась, полагая что угревая сыпь с возрастом исчезнет самопроизвольно, начало заболевания связывала со стрессом, который испытывала в связи с учебой, подготовкой к экзаменам; наличие сопутствующих заболеваний, лекарственной аллергии отрицала. Из анамнеза известно, что шесть месяцев назад была сделана ринопластика в связи с желанием изменить форму носа. Пациентка полностью удовлетворена результатом операции.
При осмотре: поражение кожи носило практически универсальный характер. Свободна от сыпи была только кожа средней трети туловища. Высыпания отличались полиморфизмом. Сыпь была представлена воспалительными папулами, пустулами, комедонами, эрозиями, линейными экскориациями, геморрагическими корками, рубцами и вторичными пигментными и депигментированными пятнами. Зуд и другие субъективные ощущения, по утверждению пациентки, отсутствовали. Кожа лица была комбинированной, в области так называемой Т–зоны – жирной, со множеством открытых комедонов, единичными воспалительными папулами и пустулами. Высыпания на лбу были представлены обильной сыпью в виде пигментных пятен темно-коричневого цвета, свежих эрозий, округлых и серповидных очертаний, повторявших форму наружного края ногтя, линейных экскориаций, покрытых гемморрагическими корочками, и атрофических рубцов. Кожа на щеках, особенно в наружной трети, была нормальной. На щеках и подбородке высыпания были единичными, в виде изолированных элементов, аналогичных таковым на лбу. Единичные изолированные папуло-пустулезные угри были локализованы на груди и на спине, преимущественно в верхней трети. Кроме того, перипилярные (расположенные почти вокруг каждого волосяного фолликула) ороговевающие папулы густо покрывали кожу верхних (фото 1, 2) и нижних (фото 3, 4) конечностей, захватывая ягодицы. На разгибательной поверхности плеч, бедер и голеней на фоне перипилярного гиперкератоза наблюдались множественные линейные экскориации, гемморагические корки, атрофические рубцы, пигментные и депигментированные пятна. Важно подчеркнуть, что пациентка тщательно скрывала от родителей наличие сыпи на закрытых участках кожного покрова. Отрицала наличие каких-либо субъективных ощущений, сопровождавших поражение кожного покрова. Не скрывала патологическую потребность в расчесывании кожи по вечерам и в стрессовых ситуациях (ссоры, подготовка к экзаменам). Клинический диагноз: патомимия, угревая сыпь I-II степени, волосяной лишай. Диагноз патомимии установлен на основании следующих клических особенностей сыпи: локализации вторичных высыпных элементов на участках кожи, легкодоступных для самоповреждения (лоб, конечности), преимущественно линейных очертаний экскориаций, одинаковой округлой и серповидной формы эрозий, четкости границ высыпных элементов и их расположения на фоне видимо здоровой кожи. Пациентка призналась в самоповреждении кожи на лице и на руках; однако, несмотря на очевидность происхождения высыпаний на ногах, пыталась убедить врача в их самопроизвольном появлении. Важно подчеркнуть преуменьшение тяжести самоповреждений со стороны пациентки и отсутствие адекватной оценки своих действий. Во время консультации пациентка расчесывала лицо, пыталась содрать корочки. Диагностика патомимии наряду с угревой сыпью и волосяным лишаем требовала изменения подхода к этой пациентке и, соответственно, тактики лечения по согласованию с психотерапевтом, благодаря чему и было достигнуто улучшение состояния пациентки.

28.04.2006





 (1).jpg)
.jpg)

.jpg)

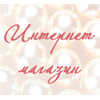
.jpg)

